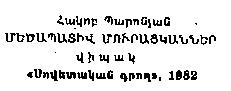Акоп Паронян «Высокочтимые попрошайки» (6 часть)
Акоп Паронян (1843–1891) — крупнейший армянский писатель— сатирик, внесший значительный вклад в развитие критического реализма в армянской литературе, автор комедий «Восточный дантист», «Льстец», «Дядя Багдасар», «Приданое» и др., в которых высмеяны пороки современного ему буржуазного общества.
Сатирическая повесть «Высокочтимые попрошайки», написанная в 1888 г., по существу, представляет собой драматическое произведение, переделанное в прозу. Определяя идею своей повести, Акоп Паронян говорит, что он создал ее «из желания показать грядущим поколениям плачевное бытие интеллигентов: нашего времени и ужасное равнодушие толстосумов к национальной культуре».
Представляем отрывок из книги.
6
Абисогом-ага спал славно, поскольку, ложась в постель, чувствовал крайнюю усталость, и, вероятно, он почивал бы и весь день, если б утром крикливые лоточники громовыми своими голосами внезапно не нарушили его сон — эту крохотную частицу смерти, являющуюся некиим, можно сказать, приютом отдохновения для уставших людей, а также и временной панацеей от многих извечных недугов.
Блажен, кто спит сном праведника, и просыпается поздно, а то и вовсе не просыпается: он или почти не чувствует, или совсем не чувствует тех страданий, которые снедают человека. Но в Константинополе даже просто поспать, увы, нет никакой возможности, ночные сторожа стучат так сильно своими колотушками, а по утрам лоточники так громко выкликают свои товары, что бедному сну впору выброситься из окна. Если в день Страшного суда архангелу Гавриилу не удастся своей трубой перебудить всех мертвых, я не премину предложить, чтобы эту его обязанность возложили на константинопольских лоточников и ночных сторожей… И, вследствие вышесказанного, Абисогом-ага, который спал в комнате, обращенной окном на улицу, проснулся рано утром. Открыв глаза, он сразу встал, отпер сундук, переменил белье, оделся и умылся. Хозяйка дома, которая уже знала, что гость встал, поднялась наверх и, препроводив его в небольшую нарядную комнату, сообщила, что некий господин хотел бы с ним свидеться.

— Позови его сюда, — сказал Абисогом-ага.
— Хорошо… Скажите, пожалуйста, кофе вы пьете с молоком?
— Пью одно молоко, без кофе.
— Значит, молоко принести?
— Да.
Хозяйка поспешила вниз.
«Посмотрим, кто же этот человек, — сказал про себя Абисогом-ага. Возможно, у него есть дочь, которую он хочет выдать замуж… Проведал, значит, о моем приезде, и вот чуть свет пришел поговорить. Но покамест я не разузнаю, какого нрава его дочь, слова своего не дам. Сперва я должен все взвесить, раскусить девушку, заручиться согласием моего отца, ибо должно, чтобы не только я, но и родитель мой любил мою жену… Мало того, нужно, чтоб она каждому по вкусу пришлась…»
— Здравствуйте, ваша милость! Мое почтение! — воскликнул молодой человек с пламенными глазами, подбегая к Абисогому-аге с очевидным намерением пожать ему обе руки.
Абисогом-ага встал и вверил свои руки этому молодому человеку, и тот долго тряс и стискивал их, рассыпаясь при этом в любезностях и расточая комплименты.
— Садитесь, Абисогом-ага, сделайте милость, вам не подобает стоять, — сказал молодой человек, вернув врученные ему руки их владельцу; затем, он, ломаясь, попятился к стоящему позади креслу и опустился в него.
Абисогом-ага воссел на диван.
— Конечно, мы еще вчера должны были бы прийти и поздравить вас с приездом, но мы поздно узнали о вашем прибытии, и я прошу извинить, — отбарабанил молодой человек, потирая руки.
— Ты вреда мне не сделал, что пришел сегодня, нечего и извиняться.
— Это ваша вежливость вынуждает вас быть снисходительным, но мы сознаем, что оплошали. Наше опоздание — это действительно оплошность, притом большая. Судите сами: в столицу прибыл достоуважаемый Абисогом-ага, и какой-нибудь фотограф является к нему с почтением лишь на следующий день! Нет, как хотите, а это всем оплошностям оплошность!
— Никакого греха не было бы, ежели б ты даже вовсе не пришел.
— Вы очень великодушный человек.
— Я совсем не великодушный.
— Пусть будет по— вашему, спорить не стану… Я предлагаю вам свои услуги… и жду ваших приказаний, хотите — сниму здесь, а нет — почтите посещением нашу контору. Мне все равно, где пожелаете, там я и сниму с вас…

— А что ты хочешь снять с меня?
— Как что? Я мечтаю снять с вас портрет, сфотографировать вашу особу.
— А!.. Но я никогда не фотографировался, и это мне ни к чему, потому что я каждый день гляжусь в наше большое зеркало и вижу свой портрет.
— Если вы захотите послать кому-нибудь ваш портрет, вы же не пошлете вместо портрета зеркало, Абисогом-ага?
— Причем тут зеркало? Я сам отправлюсь.
— Вы очень хорошо выразились… Но тем не менее пока вы не сниметесь, я не успокоюсь. Не сфотографировать вас? Нет, это было бы низко с моей стороны…
— Почему?
— Виданное ли дело — такой необыкновенный человек, как вы, приехал в Константинополь и — не сфотографировался! Вы что, хотите посмешищем стать?!
— Посмешищем стать? Почему?
— Причина известна: друзья больших людей, натурально, также большие люди; вы — большой человек, и, стало быть, не нынче — завтра начнете принимать именно их, людей вашего круга. Я знаю: они будут дарить вам свои портреты, а это значит, что вы тоже должны иметь портреты, чтобы дарить их им. Так ведь?
— И если кто не дарит, того на смех поднимают?
— Это еще полбеды, если только между собой, а то и на людях издеваться будут, извините, над вами.
— Удивительная вещь!
— Слыхано ли дело — у вас, у такой важной персоны, нет своих портретов. Ведь это просто позор! Большой позор!
— Большой позор, говоришь?
— Еще бы! В наше время не иметь своего портрета куда, знаете ли, неприличнее, чем ходить среди бела дня… в подштанниках.
— Я этого не знал.
— Цивилизация и просвещение обязывают каждого из нас иметь свои портреты.
— Скажи, а в газетах напишут, что Абисогом-ага сфотографировался?
— Подобными вопросами они не интересуются.
— Значит, и в церквах не объявят?
— А зачем вам это, Абисогом-ага? Вы что, смеетесь надо мной? Измываетесь?
— Измываюсь? Я против этого! Я никогда ни над кем не измывался…
— Не сердитесь, прошу вас.
— Нет, буду сердиться! Я человек прямой и люблю обо всем говорить прямо.
— Прекрасно. Тогда скажите, в какой же позе вы хотели бы сняться?
— Я не хочу сниматься, поскольку дело это бесполезное.

— Господи! Что может быть полезнее этого дела? Например, если вы — пожелаете навестить кого— либо из друзей, а у вас не будет времени, то пошлете ему одну свою карточку, все и образуется. Или, скажем, если вы женаты, пошлете в свое отсутствие супруге, чтобы она смотрела на ваше изображение и тем утешалась; если же еще не женаты, то сколько девиц увидят ваши портреты и поймут, кто вы есть, и о вас, таким образом, заговорят во всех кругах общества! В наше время фотографический портрет, пожалуй, нужнее, чем хлеб… Пожалуйста, согласитесь, что я прав, и давайте сейчас же отправимся в фотографию.
— А где эти девицы увидят мои портреты?
— А в альбомах ваших друзей. Ваши друзья вставят их в свои альбомы и будут всем показывать.
— Зачем?
— Вспоминать вас будут — разве плохо?
— А когда вспоминают, много от этого проку? Я б им сказал: хотите — вспоминайте, не хотите — не надо. Какая мне разница?.. А что до фотографий, то, нет, за эти ваши пустяковины я денег не дам. И ни единому твоему слову я не верю!
— Это — энсюльт*.
— Энсюльт? Это еще кто такой?
— Из-за того, что не хочу сниматься, ты — наговариваешь на меня? Я сроду никого не оскорблял!
— Вы только что оскорбили артиста.
— Пойди пожалуйся околоточному, некогда мне слушать твое вранье.
— Обращаться в полицию нет необходимости. Однако я попросил бы вас не пренебрегать вежливостью… И слова, которые вы произносите, примирять с ее требованиями…
— Вот еще! Не в моем это характере — в чужие драки ввязываться… Иди сам мири, если где дерутся.
Манук-ага приносит Абисогому-аге стакан молока, ставит на столик и говорит:
— Вот и ваше молоко. Выпейте, пожалуйста.
Абисогом-ага подсаживается к столику и начинает пить молоко.
— Каково же ваше решение, Абисогом-ага: сниматься будете во весь рост или по пояс? — спрашивает Манук-ага.
— Ни по пояс и ни во весь рост, — отвечает Абисогом-ага.
— Решили сфотографироваться, значит, сидя на этом стуле?
— Как же вы тогда решили?
— Решил не сниматься.
— Э, так нельзя, вы ведете себя как ребенок, как большой ребенок, Абисогом-ага. Теперь у нас все, начиная с малышей и кончая самыми большими, по нескольку раз в год фотографируются. Даже двухмесячные младенцы, и те не обходятся без своих фотографий, только пребывающие в утробе матери пока обходятся. Впрочем, говорят, не сегодня— завтра их тоже начнут фотографировать.
— Я не смог убедить Абисогома-агу… Ему кажется, что я пришел единственно для того, чтобы обмануть его, — сказал фотограф.
— Нет, нет, наш фотограф — образец честности, — вступился Манук-ага.
— Я сказал, что такой большой и замечательный человек, каков Абисогом-ага, не может не иметь своего портрета.
— Да, конечно, однако он должен иметь не один портрет, а много портретов, притом — разных. К примеру говоря, двенадцать штук маленьких, двенадцать штук средних, двенадцать штук больших, двенадцать — во весь рост, двенадцать — по пояс, двенадцать — сидя прямо, двенадцать — лежа, двенадцать — закинув ногу на ногу, двенадцать — положив руку на руку, двенадцать — подперев рукой голову, двенадцать — та же рука на столе, еще столько же — с тростью в руке, еще столько же — с улыбкой на лице, еще столько же — с грустным лицом и еще двенадцать — с лицом не грустным, но и не веселым… Да, Абисогом-ага. И если вы сниметесь не во всех этих позах, то унизите сами себя, это — вопрос чести,
— Ты правду говоришь? — спросил Абисогом-ага.
— Что мне за интерес говорить вам неправду?! Если вы не обзаведетесь своими портретами, на вас будут коситься. Ведь их все большие люди имеют.
— И по стольку штук, сколько ты назвал? Ты это хорошо знаешь?
— Да.
— А у маленьких людей тоже по стольку?
— У маленьких меньше, те по три или, много-много, по шесть карточек берут.
— Никогда не думал, что каким-то карточкам такую важность у вас придают.
— Теперь только портретам и придают значение, и чем лучше ты на них выглядишь, тем больше значишь.
— Понимаю, у вас у каждого, говоришь, есть свои портреты…
Но как по ним узнаете, кто большой человек, а кто маленький? Вот если бы только большие снимались…
— Дело в том, что портреты больших людей — больших же размеров и отпечатаны на блестящей бумаге.
— Вот как! Ладно… А можно, чтобы на этой бумаге вместе со мной были и мои слуги, стояли против меня навытяжку?
— Отчего же нельзя, можно.
— Правда?
— Можно, пожалуй.
— У меня есть также и поместья, где много коров, овец, лошадей, гусей, уток… Нельзя ли их тоже где-нибудь сбоку пристроить?
— Их нельзя, но слуг — было бы даже неплохо. Не так ли, господин Дереник?
— Да, — сказал фотограф.
— А нельзя ли, — снова полюбопытствовал Абисогом-ага, — хотя бы написать под нашим портретом, мол, у этого человека собственные имения, лошади, коровы, ишаки?
— Написать нельзя… Оно и можно, однако таких надписей у нас обыкновенно не делают. Да и не нужна она вам, ведь скоро и так всем станет известно, кто вы есть.
— А верхом на лошади мог бы я сняться?
— Да, — сказал Дереник.
— Но чтобы лошадь скакала.
— Это почти невозможно.
— Ладно, завтра посмотрим.
— Если желаете, завтра наш аппарат мы доставим сюда.
— Согласен, доставь, — подхватил Манук-ага. — Не приличествует Абисогому— аге сниматься в вашей фотографии, большие люди снимаются не в фотографии, а у себя дома.
— Слушаю! — сказал Дереник и, вскочив с места, начал потирать руки, переваливаться с ноги на ногу и ломаться, представляя человека, который хочет что-то сказать, но стесняется. Тут уместно заметить, что человек, который хочет что-то вам сказать, но стесняется, в конце концов непременно попросит денег.
— Завтра доставь, значит, свою машину, — согласился и Абисогом-ага.
— Слушаю! — вскрикнул фотограф, не переставая ломаться.
— Я сказал — завтра свою машину принесешь сюда! — повторил Абисогом-ага, возвысив голос.
— Я понимаю, завтра наш аппарат мы должны принести сюда, — подтвердил Дереник, — но у нас, извините, такой обычай… здесь принято…
— Говори.
— Прошу покорно, только не обижаться.
— Не обижусь.
— У нас здесь такой обычай: если наш аппарат мы приносим в дом клиента, берем задаток. Не потому, что не доверяем, а из уважения к обычаю.
— Что это за обычай у вас… некрасивый?
— Ничего не поделаешь, обычай.
— Ладно. Хватит тебе двух золотых?
— Хватит.
И не успел Абисогом-ага дать фотографу два золотых, как тот попрощался и был таков.
*Энсюльт (франц.) — оскорбление.